Предлагая сайту о путешествиях эти воспоминания, я руководствовался тем, что сайт часто посещают научные работники. А для них проблемы истории науки крайне важная тема, особенно истории советской науки, свидетелями и непосредственными участниками которой они были. Этим конкретным воспоминаниям можно было бы дать подзаголовок “Путешествие в Москву и обратно, как метод формирования научного потенциала союзных республик”. В советский период этот вид путешествий был очень распространен. Тысячи людей прошли через него. Благодаря ему формировался научный потенциал Грузии и Молдавии, Киргизии и Азербайджана, а также определялся уровень подготовки преподавателей ВУЗов. Именно благодаря этому виду путешествий наука современной Молдовы существует. Через него прошли Президенты Академии наук Молдовы Дука Г.Г.. и Тигиняну И.М., а если к Москве добавить Ленинград, то из 5 Президентов Академии наук Молдовы трое прошли этим путем. Становление многих, ныне здравствующих, или уже ушедших в мир иной членов Академии происходило подобным образом. Да разве только членов Академии? Предлагаемая статья – это воспоминания доктора химических наук Игоря Григорьевича Язловецкого (1941-2021). Эти воспоминания уже были опубликованы в сборнике, посвященном 50-летию Лаборатории химии углеводов Института химии природных соединений, а впоследствии Института органической химии АН СССР, руководимой блестящим исследователем, ученым мирового уровня академиком Николаем Константиновичем Кочетковым. Несмотря на наличие деталей, важных для специалистов в конкретной области, они очень точно описывают процесс формирования ученого. Как, работая над проблемами фундаментальной науки, формируется исследователь, который в дальнейшем может развивать другие области знания. К сожалению, приходится констатировать, что подобный вид путешествий в современной Молдове невозможен, да и развитие науки в ней все в большей степени отдаляется от мировых стандартов. А ведь развитие науки – это основа развития страны.
А.И.Дикусар, член-корр АНМ
И.Г. Язловецкий
О РОЛИ ХИМИИ УГЛЕВОДОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Я давно заметил: чем старше становится человек, тем более издалека он начинает свои воспоминания. Я впервые переступил порог Лаборатории, когда она еще не достигла школьного возраста, а Шефу было всего 49. Теперь моему сыну 43, Лаборатория дожила почти до 50, а Шеф уже три года живет в памяти всех, кто отдал хоть какую-то часть своей жизни Лаборатории, получив взамен неоценимо многое.

Я закончил элитную, как теперь говорят, среднюю школу № 37 г. Кишинева. Учили в ней неплохо, что подтверждалось ежегодным поступлением многих наших выпускников в самые престижные вузы страны. Но последние четыре школьных года прошли для меня под знаком увлечения авиамоделизмом, которым я занимался настолько профессионально, что прочно обосновался в составе сборной команды Молдавской ССР. Меня регулярно призывали на всякие соревнования и сборы, в результате чего к началу 9 класса сформировался заметный антагонизм между моим увлечением и школьной успеваемостью. Принимая из моих рук очередную оправдательную бумагу из авиаспортклуба ДОСААФ, директор школы смотрел на меня с укором, но я успокаивал его и себя тем, что мое увлечение обязательно поможет мне поступить в авиационный институт, почему-то в Харьковский. К зависти одноклассников я с гордо поднятой головой исчезал из школы на очередные две недели, чтобы по возвращении вновь убедиться в своем почти безнадежном отставании по всем предметам.
Не знаю, чем бы это все закончилось, но в самом начале 10 класса в нашей семье произошло несчастье, которое резко изменило мою жизнь и само отношение к жизни. Об отъезде на учебу в Харьков и вообще куда-либо не могло быть и речи, и поэтому весь последний год я наверстывал упущенное и присматривался к кишиневским вузам. Кто-то подсказал мне, что самое лучшее и многостороннее образование дают университеты. Тогда я не понимал, почему это так, но поверил на слово и через 5 лет понял, что не ошибся. Оставалось выбрать факультет, и тут мне помог Н.С. Хрущев со своей «+ химизацией». Еще я узнал, что в Кишиневском университете очень сильный химфак, что впоследствии подтвердилось.
Химии с 7-го по 9-й класс нас учила старательная и скромная Антонина Васильевна. Делала она это настолько хорошо, что даже авиамоделизм не мешал мне всегда иметь по химии не меньше твердой четверки. Наш директор тоже был химиком и считал своим долгом лично преподавать свой предмет десятиклассникам, чтобы «довести» их до выпускной кондиции. Он был очень хорошим директором, школа была создана им в 1945 г. и всегда на нем держалась. Однако преподавателем химии он был никаким, так как всегда был занят чем-то гораздо более важным. Поэтому органическая химия и химия полимеров долгое время были для меня трудными и не очень понятными науками. Положение не спасли даже занятия в химическом кружке при КГУ. Тем не менее я занял почетное 3-е место на олимпиаде среди десятиклассников, получил за это прекрасный «Краткий справочник химика» Перельмана, которым пользуюсь до сих пор, и, самое главное, был замечен на химфаке.
Вступительные экзамены в сентябре 1959 г. я сдал довольно легко, но набор на наш маленький химфак был всего 25 человек, 20 из которых по тем временам должны были иметь трехлетний стаж работы или отслужить в армии. Для «школьников» оставалось всего 5 мест, на которые пришлось принять семерых, набравших 25 баллов (из 25). Я даже не повис на волоске, а, казалось, просто не имел никаких шансов, потому что со своими 24 баллами (получил 4 по математике) был далеко не единственным. Меня спасла Нина Алексеевна Полотебнова – декан химфака, – предъявив приемной комиссии мои козыри – занятия в кружке и успехи на олимпиаде. Какое-то время она, наверное, жалела об этом, потому что на I курсе я учился без особого энтузиазма. До отчисления не дошло, но деканату пришлось со мной повозиться. Однако на II курсе у меня вдруг начал просыпаться интерес к занятиям химией. Сначала это была аналитика, особенно качественный анализ, а окончательный перелом произошел на III курсе, когда дело дошло до органики.
Едва попав на практикум по органической химии, я сразу понял, что это мое. Причина был проста. Здесь нужно было уметь и любить много и хорошо работать руками, что мне после многолетних авиамодельных упражнений было легко и интересно. Успехи в экспериментальной работе пришли очень быстро, и уже через пару месяцев я получил право работать с посудой на шлифах. Мой первый научный руководитель ассистент Григорий Владимирович Ройтбурд был не только хорошим химиком, но и прекрасным стеклодувом. Понятно, что я тут же стал его самым любимым учеником. Пробелы в школьных знаниях по органической химии восполнились быстро и незаметно. Вплоть до окончания университета я ходил работать на кафедру, как на праздник, и пропадал там с утра до ночи. С середины IV курса я даже стал помощником хозлаборанта кафедры, получая за это вторую стипендию.
Первое мое знакомство с углеводами произошло случайно. Кафедра получила заказ от Союзхимреактива на наработку 5-оксиметилфурфурола достаточно высокой степени чистоты. Он нужен был НИИ пищевой промышленности для калибровки при разработке стандартов качества кондитерских изделий. Работа была поручена мне, поскольку других претендентов на кафедре не нашлось. Союзхимреактив к своей заявке приложил методику синтеза 5-оксиметилфурфурола дегидратацией фруктозной части молекулы сахарозы под давлением при 120-140С в 0,3%-ном растворе щавелевой кислоты. Проделав это, я сразу понял, что надо придумывать что-то другое. Вполне симпатичная исходная смесь после трех часов автоклавирования превращалась в вязкую черную смолу, из которой целевой продукт удавалось выделить с выходом всего 2-3%. Тогда я пошел в университетскую библиотеку и впервые самостоятельно нашел в «Journal of Chemical Society» довольно свежую (1960 года) методику. Суть ее заключалась в добавлении к нагретой до 90С суспензии сахарозы в диметилформамиде по каплям при перемешивании раствора иода. Реакция была необыкновенно красивой. Иод обесцвечивался, и уже через 2-3 минуты на глазах у изумленных зрителей суспензия сахарозы вдруг превращалась в радующий глаз бесцветный раствор. Выделение и очистка 5-оксиметилфурфурола тоже были приятным занятием, потому что мы с Ройтбурдом специально для этого изготовили стеклянный экстрактор и прибор для вакуумной перегонки в атмосфере азота. Это позволило добиться 70%-ного выхода почти бесцветного продукта. Довольно быстро я извел все кафедральные запасы хч-сахарозы, но легко вышел из положения, купив нужное количество сахара-песка по 78 коп. за килограмм.
Этот синтез принес мне довольно много дивидендов и имел продолжение. Хотя изготовленная пробная партия в 20 г 5-оксиметилфурфурола просто исчезла в недрах Союзхимреактива, этот синтез мне зачли как курсовую работу за IV курс. Потом я съездил с докладом о нем на Всесоюзный съезд студенческого научного общества в Одессу и написал свою первую научную статью, которую опубликовали в «Трудах КГУ». Примерно через полтора года эта публикация освободила меня от написания научного реферата при поступлении в аспирантуру. Уже после окончания университета, когда я распределился в лабораторию химии природных соединений Института химии АН Молдавской ССР и начал сдавать вступительные экзамены в аспирантуру, Союзхимреактив вдруг напомнил о себе, и мне пришлось за какой-то месяц срочно наработать целых 300 г 5-оксиметилфурфурола. Наконец, через три с половиной года, когда я уже дымился перед защитой диссертации в ИОХ, меня отловили две сотрудницы московского пищевого НИИ. Оказалось, что они уже извели мои 300 г и им нужны новые количества, а кроме меня в огромной стране никто не мог делать 5-оксиметилфурфурол такого качества даже за большие по тем временам деньги. Деньги, конечно, были нужны, но времени не было совсем, поэтому пришлось от них отбиваться. Но во всей этой истории я впервые ощутил себя особым человеком, имя которому – химик-органик, да еще синтетик, квалификация и труд которого востребованы.
Моя дипломная работа была посвящена синтезу азотистых производных слизевой кислоты с потенциальной противоопухолевой активностью. Она была выполнена мной хорошо и с удовольствием и стала впоследствии основой кандидатской диссертации моего руководителя Г.В. Ройтбурда. Этот человек никогда и никуда не торопился и поэтому защитился даже позднее меня на целых пять лет. Все полученные нами производные слизевой кислоты были кристаллическим веществами. И если на 5-оксиметилфурфуроле я научился вакуумной перегонке, то здесь мой руководитель щедро поделился со мной своим искусством получения прекрасных кристаллов из, казалось, безнадежно аморфных субстанций. Как это умение мне потом пригодилось!
Ближе к концу V курса вдруг вышел из тени и обозначил свои симпатии ко мне академик АН Молдавской ССР Георгий Васильевич Лазурьевский. Когда-то он заведовал нашей кафедрой в КГУ, но потом ушел в Академию, был там главным ученым секретарем и директором Института химии. Меня он знал с детства, так как мы с ним много лет прожили на одной лестничной площадке, где я часто принимал для него от почтальона огромные сводные тома РЖХим. Но только на V курсе, когда он закончил читать нам спецкурс по химии природных соединений и принял зачет, последовал прямой вопрос: «Не хотели бы вы продолжить свою научно- исследовательскую работу?». Я, конечно же, хотел, но не очень представлял, где и как.
Проблем со мной было много, и Георгий Васильевич стал решать их в порядке поступления. Вскоре я узнал, что он давно задумал создать в Институте химии лабораторию химии углеводов. Для этого необходимо было подготовить специалистов, и первый выбранный Лазурьевским экземпляр был отправлен в ИХПС еще в 1962 г. Им был Вася Чирва, закончивший нашу кафедру двумя годами раньше меня. От него я узнал, что есть Шеф и есть Лаборатория и что в ней уже даже знают о моем скором поступлении в «целевую» аспирантуру. Однако для поступления в аспирантуру сразу же после окончания университета нужно было получить рекомендацию ученого совета химфака. Такие рекомендации давали только отличникам, а мне до этого статуса было довольно далеко. Увлечение органикой не прошло бесследно для среднего балла моего диплома – ведь, начиная с III курса, я всерьез изучал только химические науки. Вновь возник академик Лазурьевский. Он в последний момент официально оформил свое руководство моей дипломной работой и после ее защиты убедил ученый совет в моих способностях к научно- исследовательской работе.
Получив рекомендацию, я для начала попал в лабораторию, которой руководил Георгий Васильевич. Здесь в течение четырех месяцев я варил 5-оксиметилфурфурол, сдавал вступительные экзамены в аспирантуру и готовился к отъезду в Москву. Подготовка заключалась в штудировании нового учебника органической химии К. Неницеску, поскольку Вася сказал, что Шеф считает этот учебник самым лучшим. Много времени и сил потребовала также затяжная борьба с военкоматом, который очень хотел призвать меня на срочную службу. Г.В. Лазурьевский ввязался и в эту борьбу и даже пошел на прием к республиканскому военкому. Но генерал ему сказал:
«Это вы в Академии – главный ученый секретарь, а у нас вы – рядовой, необученный!». Академик спорить не стал и напустил на военкома начальника 1-го отдела Академии, тоже генерала, хотя и в отставке. Генералы в конце концов договорились, но на это ушло время. В итоге я впервые вошел в комнату № 227 правого крыла «Желтого дома», хозяином которой был Леша Бочков, только в конце октября 1964 года.
Обязательным условием прикомандирования к московским институтам «целевых» аспирантов, закончивших провинциальные вузы, была повторная сдача ими вступительного экзамена по специальности в Москве. К моему приезду эта кампания в ИХПС была уже завершена. Шеф пообещал договориться о созыве специальной экзаменационной комиссии для меня, однако сначала захотел оценить мои познания в органической химии. Мне было предложено свободно побеседовать на эту тему с тогда еще младшими научными сотрудниками А.Ф. Бочковым, А.И. Усовым, О.С. Чижовым и Б.А. Дмитриевым. Беседа была одновременно доброжелательной, непринужденной и жесткой. Силы были явно неравны. Мои слабые места обнажались быстро и беспощадно. Я получил неделю на устранение выявленных недостатков. Потом была еще одна беседа продолжительностью также в один день, после которой Шефу было доложено, что меня можно выпускать. Экзамен состоялся на следующий день и свелся к гораздо более простой и короткой беседе с А.С. Хохловым. Потом был совсем короткий напутственный разговор с Шефом в его «кабинете», отгороженном фанерой в большой темной комнате, заставленной приборами. Беседа завершилась его коронным, как мне потом объяснили, вопросом: «Ну, хорошо, а чувство юмора у вас есть?». Мне хватило ума промычать в ответ что-то неопределенное.
Уже через две недели я поступил в распоряжение Леши Бочкова. Для начала он провел меня по всем комнатам Лаборатории, торжественно произнося в каждой: «Это Игорь Язловецкий, наш новый аспирант из Молдавии!». Ответы сотрудников делились на два типа: «Опять из Молдавии?!» и «Ну, Леша, ты растешь!». В коллектив я влился сравнительно легко. Этому немало способствовала стационарная, хотя и не такая профессиональная, как у Г.В. Ройтбурда, стеклодувная горелка, установленная в Лешиной комнате. Поработать на ней приходили не только почти все сотрудники Лаборатории мужского пола, но и некоторые представительницы слабого. Больше всех в этой связи мне запомнился будущий лимнолог и академик РАН, а в то время старший лаборант Миша Грачев. Он удивлял меня не стеклодувным мастерством и даже не своим великолепным английским, а тем, что, входя в нашу комнату, в любое время суток всегда громко говорил: «Доброе утро!». Горелка вместе с кистями рук Лешиного друга Славы Жвирблиса вскоре была увековечена в «Химии и жизни» – время от времени Слава приходил к нам с профессиональным фотографом, чтобы отснять сюжеты по стеклодувному делу, регулярно публиковавшиеся тогда на страницах этого журнала.
Мне предстояло под непосредственным руководством Бочкова «создать подходы к синтезу регулярных полисахаридов заданного строения на основе разработанного в лаборатории ортоэфирного метода синтеза гликозидов». Но так моя задача была сформулирована только три года спустя, в автореферате моей диссертации. А в ноябре 1964 г. Леша лихорадочно завершал разработку ортоэфирного метода, чтобы в апреле защитить кандидатскую диссертацию. Тем не менее, получив в моем лице своего первого аспиранта, Леша немедленно стал оттачивать мастерство научного руководителя и одновременно делать из меня человека. И хотя у меня поначалу было еще два руководителя (Шеф и А.Я. Хорлин), основной объем каждодневной работы со мной в течение трех лет выполнял, конечно, Леша. Он быстро заменил мне Г.В. Ройтбурда, без которого я поначалу чувствовал себя сиротой. Явно в испытательных целях Бочков поручил мне синтез 3,4–циклокарбоната β-бензил–D- арабинопиранозида. Он заключался в обработке раствора этого гликозида фосгеном, который тоже надо было синтезировать. Через два дня я предъявил около 10 г вполне приличных кристаллов, которые так никогда и не были использованы, потому что задуманная Лешей схема синтеза за эти два дня утратила свою актуальность. Но на этом синтезе я обучился основам ТСХ и колоночной хроматографии на окиси алюминия и силикагеле, которые в университете я только наблюдал в исполнении других.
Лаборатория поначалу меня ошеломила организованностью, напряженным ритмом работы, непринужденностью и открытостью общения сотрудников между собой, непререкаемым авторитетом Шефа для всех, но не во всех вопросах. Я был поражен его готовностью и умением на равных обсуждать на лабораторных коллоквиумах работы сотрудников и даже аспирантов, удивительно легко признавая при этом свою меньшую осведомленность в каких-то деталях. Много лет спустя я стал понимать уникальный стиль общения Шефа с коллективом как способность одновременно растворяться в нем и возвышаться над ним. Запомнился эпизод с Васей Чирвой, который стремительно, меньше чем за два года, выполнил эксперимент. Уже докладывая свою диссертацию на коллоквиуме, он несколько раз подряд начинал ответы на вопросы Шефа словами: «Понимаете, Николай Константинович…». Шеф терпел, но потом вдруг сказал весело: «Понимаю, Вася!».
Самым интересным для меня был первый год аспирантуры, когда на меня навалились все три моих руководителя. Правда, все вчетвером мы собрались только один-единственный раз, чтобы составить развернутый план первого года работы. (Кстати сказать, он содержал семь пунктов; на выполнение первых двух у меня ушел весь срок аспирантуры.) Дальше Леша работал со мной каждый день с утра до вечера. Поскольку в контроле за моими экспериментами особой необходимости не было, Леша сосредоточился на придумывании для меня схем синтезов. Идей у него всегда была полна голова, так что мне даже пришлось завести для них специальную амбарную книгу. Итоговая реализуемость записанных схем не превысила 5%, но и этого было более чем достаточно. С самого начала Леша решил также научить меня писать научные статьи. Я обязан был самостоятельно создавать их первые варианты, при прочтении которых Леша не забывал отключать свое чувство юмора. А.Я. Хорлин считал своей обязанностью ежемесячный неотвратимый контроль записей в моем лабораторном журнале, что мне тоже очень пошло на пользу. Заодно он присматривал за моей работой с литературой и помог создать личную картотеку по химическому синтезу полисахаридов. Шеф осуществлял руководство крупными штрихами. Правда, влиял он на меня преимущественно через Лешу, но это незримое влияние я все равно ощущал постоянно.
Уже первой аспирантской весной мне улыбнулась удача: я осуществил синтез весьма необычной по тем временам трициклической ортоэфирной структуры, которую Леша назвал «зонтиком». По Лешиной схеме синтеза ожидалось образование бициклического ортоэфира, полимеризация которого дала бы нам линейный арабинан заданного строения. Но очищенный сиропообразный основной продукт при попытке высушить его для микроанализа спонтанно кристаллизовался прямо в вакуум- пистолете, что сопровождалась увеличением его подвижности на пластинке с окисью алюминия, причем превращение было быстрым и количественным. Леша долго отказывался признавать происходящее, называя его «хроматографическими фокусами». Но после того, как микроанализ показал отсутствие в высушенном веществе метоксильной группы, он несколько сник и предложил мне для верности попробовать вырастить из него кристалл, пригодный для рентгеноструктурного анализа. Я мобилизовал все свои навыки и за три дня получил несколько кристаллов длиной до 4 мм!
До сих пор помню, как поздно вечером я, пытаясь в очередной раз спровоцировать кристаллизацию, осторожно добавлял при перемешивании к метанольному раствору продукта что-то менее полярное. Вдруг на поверхности раствора я заметил первый маленький кристаллик, немедленно остановил мешалку и несколько минут наблюдал, как он бегал, поддерживаемый силами поверхностного натяжения, пока не превысил критическую массу и не опустился плавно на дно. Не хватало только тихого звона! Потом я неоднократно повторял этот фокус при свидетелях, но в первый раз, к большому моему сожалению, никого в лаборатории уже не было. Рентгеноструктурный анализ был немедленно сделан в Институте кристаллографии, очень скоро подоспели результаты определения молекулярной массы из Новосибирского ИОХ, и после этого Леша уверенно нарисовал «зонтик».
Я тщательно очистил и охарактеризовал, как положено, полученное красивое вещество, с которым было приятно работать. Но я относился к нему несколько пренебрежительно, поскольку воспринимал всю эту историю как курьез, неудавшийся синтез нужного мономера. Так продолжалось до тех пор, пока Леше не пришла в голову гениальная идея попытаться заполимеризовать то, что получилось, очевидно, в надежде, что новичкам везет чаще, чем обычным людям. Так оно и вышло. Полимеризация прошла, и после омыления продукта удалось доказать присутствие в смеси высокоразветвленного полимера L-арабинофуранозы. Шеф был воодушевлен и даже сказал, что диссертация у меня уже в кармане, а остальное – дело техники.
В результате в июле я был отпущен в заслуженный и полновесный аспирантский отпуск, оказавшийся потом единственным. Я провел его на черноморских пляжах и вернулся в Москву очень расслабленным. Однако расслабленность моментально улетучилась, так как Шеф успел за это время съездить в Канаду, в лабораторию нашего конкурента Лемье, и заподозрил того в стремлении быстро синтезировать полисахариды ортоэфирным методом. Немедленно было отправлено письмо о наших предварительных успехах в редакцию «Известий», затем в «Carbohydrate Research». Кроме того, группе Бочкова была поставлена стратегическая задача наработать материал для доклада Шефа на IV Конгрессе IUPAC по химии природных соединений, который должен был пройти в июне-июле 1966 г. в Стокгольме. И работа закипела!
Главной проблемой было увеличение выхода полисахарида. Мономер кипятили в нитрометане в присутствии бромида ртути. Для повышения степени полимеризации и выхода полимера освобождающуюся воду удаляли азеотропной отгонкой с нитрометаном. На практике это означало, что в реакционную колбу, из которой непрерывно отгонялся азеотроп, нужно было добавлять нитрометан так, чтобы поддерживать его уровень в колбе постоянным. Из дополнительных мер Леша на этот раз ничего не смог придумать лучше, чем увеличить продолжительность реакции. Под его напором еле сторговались ограничить длительность синтеза одной неделей. Поэтому на помощь мне пришли сам Леша и Валя Сняткова. Целую неделю, сменяя друг друга каждые 12 часов, мы непрерывно капали, кипятили и отгоняли! В итоге высокоразветвленный арабинан был получен с выходом 50%. Далее последовала длительная и нудная работа по его выделению, очистке, оценке молекулярной массы и средней степени разветвления.

Последние цифры были привезены Шефу прямо к поезду, и скоро весь мир узнал, что в ИХПС разработан новый путь синтеза полисахаридов с заранее заданным типом гликозидных связей. Свое сообщение Шеф проиллюстрировал весьма лаконичным примером, в котором поместились полтора года моей аспирантуры (см. рис.: цифрой 1 обозначен полученный полимер, цифрой 2 – мономер, он же трициклический «внутренний» ортоэфир L-арабинофуранозы, он же «зонтик»). В лабораторном фольклоре этот метод позднее получил не совсем точное название «Cинтез полисахаридов одними насосами».
Вторая половина моей аспирантуры была не столь романтичной. Шеф называл этот период наращиванием мяса на уже имеющийся скелет диссертации. На фотографии (см. стр. 1) я запечатлен примерно за полгода до его окончания, уже в огромной комнате на четвертом этаже ИОХ. Позади была переброска Лаборатории со всем скарбом на саночках на расстояние примерно 300 метров, что стоило мне пары месяцев аспирантуры. Переезду предшествовало весьма болезненное разделение дружного коллектива на три неравные части, две из которых оставались в ИХПС, а одна переходила с Шефом в ИОХ, становясь там Лабораторией № 21. Помимо всего прочего, нелегкой была утрата возможности постоянного общения с такими замечательными людьми, как Володя Демушкин, Миша Турчинский, Женя Свердлов… На фотографии видно, что я всем этим сильно озабочен.
Тем не менее по теме диссертации на тот момент у меня было уже 10 публикаций, в том числе три – в «Carbohydrate Research». Это даже Леша признавал вполне достаточным. Но интерес Шефа к нашим работам не угасал, мои руки были еще очень нужны, поэтому от лабораторного стола я был полностью отпущен только после окончания всего срока аспирантуры. Это сильно усложнило мой быт, поскольку вместе с аспирантурой закончилась временная московская прописка, и я не только перестал получать стипендию, но и лишился койко-места в аспирантском общежитии. Пришлось обзавестись раскладушкой и пять месяцев бомжевать, кочуя с ней по комнатам друзей и знакомых. Главным было уберечь раскладушку от конфискации общежитским начальством. Естественно, что в моей голове быстро созрел малодушный план отъезда в Кишинев с последующим неспешным написанием диссертации в более комфортабельных условиях.
Шеф мои трудности понимал, но сказал прямо и жестко, как это всегда делал в критических ситуациях: «Игорь, мне не нравится ваша идея. Пока вы рядом, я о вас помню и готов помочь, чем могу. Но я не могу вам обещать сохранения моего интереса к вашей диссертации на таком большом расстоянии». Действительно, он помог уменьшить мои финансовые трудности, приняв меня на три месяца на должность старшего лаборанта. Но главная его помощь заключалась в рациональной организации процессов написания диссертации и ее защиты. Однако и на этом этапе не обошлось без осложнений. Все три года аспирантуры я довольно тщательно собирал литературу, писал литературный обзор по химическому синтезу полисахаридов и потому считал, что эта часть диссертации у меня практически готова. Но судьба приготовила мне коварный удар: в конце 1967 г. за рубежом вышли два исчерпывающих обзора на эту тему. Мы собрались втроем, и Шеф спросил: «Игорь, Вы сможете добавить что-нибудь новое к обзорам Гольдштейна и Такаши?». Добавить я ничего не мог, а потому безропотно согласился писать новый обзор, тему которого Шеф тут же поручил сформулировать Бочкову. Леша это сделал на следующее утро, и я на целый месяц ушел в библиотеку, чтобы собрать литературу и написать обзор по методам построения гликозидной связи.
Довольно скоро я понял природу высокой требовательности Шефа к качеству моей диссертационной работы. Он уже тогда решил выпустить меня на защиту не где- нибудь, а в ИОХ, и это должно было стать первой защитой диссертации из Лаборатории на секции синтеза ученого совета Института. А отношение «кондовых», по определению Бочкова, органиков-синтетиков ИОХ к углеводной химии вообще и к Лаборатории в частности тогда только формировалось и было непростым. Первым моим оппонентом Шеф выбрал не кого-нибудь, а Виктора Федоровича Кучерова, который не только заведовал блестящей лабораторией имени академика И.Н. Назарова, но и олицетворял собой великий скепсис по отношению к углеводной химии как самостоятельной науке.
Сначала мной был написан автореферат. Его печатание и рассылка открывали возможность представления диссертации к защите и назначения точной ее даты, что меня в принципе устраивало, так как не допускало возможности растянуть написание и оформление самой диссертации более чем на месяц. Но для реализации такого смелого плана необходимо было получить от первого оппонента письменное подтверждение того, что автореферат действительно является кратким изложением еще ненаписанной диссертации. За ним Шеф отправил к Виктору Федоровичу нас вдвоем с Бочковым. Леша начал петь соловьем что-то о неразрывной связи синтетической химии углеводов и органической химии. Кучеров слушать не стал, но молча подписал заготовленную нами бумагу. Так путь к отступлению был для меня отрезан и началась гонка.
Процесс написания диссертации был организован следующим образом. Утром каждого дня я был обязан предъявить Бочкову не менее 10 машинописных страниц, благо был счастливым обладателем портативной машинки «Олимпия». Леша быстро делал с ними то, что считал нужным, и немедленно вручал Шефу. На следующее утро я получал свою вчерашнюю продукцию после двойного контроля и в сильно измененном виде, осмысливал суть внесенных поправок и добавлял эту новую порцию к сводному тексту. В таком ритме мы проработали не более 20 календарных дней, чего оказалось вполне достаточно для завершения творческого процесса. Лимитирующим звеном здесь был, конечно, я, поскольку никак не мог конкурировать с двумя членами авторского коллектива, только что написавшего за шесть месяцев всем известную «Черную книгу». Оформление работы тоже было завершено быстро, благодаря существенной помощи сотрудников Лаборатории. Больше всех запомнился вклад Сергея Кара-Мурзы, который недавно вернулся с Кубы и готовился к переходу в Институт истории естествознания и техники. Я никак не мог найти машинистку для быстрого печатания списка иностранной цитированной литературы. Тогда Сергей по своей инициативе взял и отстучал его одним пальцем на единственной тогда в Лаборатории машинке с латинским шрифтом.
Настал день, когда я принес первый, еще непросохший экземпляр диссертации в кабинет В.Ф. Кучерова. Он взял его и сразу сказал строгим голосом, что все свои вопросы задаст на защите, до которой оставалось меньше недели. Мои страхи и комплексы в этой связи Шеф помог преодолеть одной фразой: «Запомните, Игорь: если вы сделали свое дело хорошо, то в нем никто лучше вас разбираться не может». Защита прошла интересно и запомнилась мне на всю жизнь. Как и ожидалось, дискуссия с первым оппонентом получилась очень затяжной. Виктор Федорович не отступил от своих принципов ни на миллиметр, но проголосовал точно «за», потому что голосов «против» не было. Перенос содержания дискуссии с магнитофонной ленты на бумагу продолжался потом целых 10 дней под зубовный скрежет тогдашнего ученого секретаря секции А.В. Семеновского. Зато с тех пор я знаю, какое можно получать удовольствие от научных дискуссий.
Дым после защиты развеялся моментально, потому что нужно было решать, что делать дальше. Мной несколько раз предпринимались довольно вялые попытки трудоустройства, альтернативного возвращению в Кишинев. Шеф свел меня с людьми из Института медико-биологических проблем, которым был нужен специалист для синтеза полисахаридных антикоагулянтов крови. Но даже там не обещали скорого решения жилищного вопроса. Витя Васьковский написал рекомендательное письмо Мише Грачеву в Новосибирский ИОХ, которое я храню до сих пор, потому что так его и не отправил, опасаясь сибирских морозов. Ляля Калиневич через свою подругу предъявила меня лаборатории биохимии НИИ птицеперерабатывающей промышленности в Зеленограде, но там не очень знали, кто им нужен. Параллельно с этими поисками нарастала моя усталость от уже упомянутых бытовых и финансовых проблем. По этой причине мне легко было убедить себя в том, что я не имею права подвести Г.В. Лазурьевского и обязан вернуться в Кишинев. Устала ждать меня и моя семья – мой сын родился всего за полтора месяца до моего поступления в аспирантуру, и ему было уже три с половиной года.
В Академии наук Молдавской ССР жизнь тоже не стояла на месте, но перемены были явно не на пользу углеводной химии. Георгий Васильевич утратил пост главного ученого секретаря, а вместе с ним и возможность создания лаборатории химии углеводов. Вася Чирва руководил группой в составе лаборатории химии природных соединений Института химии и был поглощен своей докторской диссертацией. В свойственном ему быстром темпе он ее изготовил и защитил в середине 1970-х годов, после чего довольно скоро уехал в Симферополь. Синтетические работы по сахарам в Академии уже не интересовали никого. От должности старшего лаборанта в лаборатории органической химии я отказался. Лазурьевский испытывал некоторые неудобства по отношению ко мне, но единственное, что смог сделать, – разрешил мне свободное трудоустройство.
Два года я проработал старшим научным сотрудником на кафедре технологии виноделия Кишиневского политехнического института. Здесь я смог заняться полисахаридами винограда и даже опубликовал по ним пару статей в «Прикладной биохимии и микробиологии». Я начал также читать студентам интересный для меня (но не для виноделов, которым он был адресован) курс энохимии, то есть химии виноделия. О смене места работы я стал подумывать сразу после того, как заведующий нашей кафедрой объяснил мне, что для обеспечения требуемых деканатом показателей успеваемости я должен пойти на некие компромиссы. Они заключались в том, что оценку «удовлетворительно» на экзамене я должен был ставить тем студентам дневного обучения, которые уверенно напишут не весь цикл Эмбдена-Мейергофа-Парнаса, а почему-то только структурную формулу уксусной кислоты. Для заочников эта планка была опущена до структурной формулы этанола.

И.Г. Язловецкий
И тут случайно и очень кстати в апреле 1970 г. моя жена увидела в газете «Сельская жизнь» объявление о том, что Всесоюзный НИИ биологических методов защиты растений объявил конкурс на вакантную должность старшего научного сотрудника в лабораторию химии аттрактантов и гормональных препаратов. Оказывается, этот институт уже три месяца, как был открыт в Кишиневе. Скоро я узнал, что нужной мне лабораторией заведует Борис Григорьевич Ковалев. Он закончил МИТХТ, попал в аспирантуру «несмеяновского набора» для ИХПС и даже имел тогда беседу с Н.К. Кочетковым. Но поскольку в ИХПС еще не было рабочих мест, его откомандировали в ИОХ в лабораторию В.Ф. Кучерова. Там он почему-то и остался, сделал и защитил диссертацию на той же секции ученого совета ИОХ, что и я, но только шестью годами раньше. Мы разминулись на встречных курсах в 1964 г., когда я поехал поступать в аспирантуру, а он получил должность с.н.с. в Институте химии АН Молдавской ССР, где через несколько лет приступил к исследованиям феромонов насекомых.
Ковалев принял меня в свою новую лабораторию, не раздумывая, и работать с ним было очень интересно, особенно поначалу. Я, конечно, советовался с Шефом по поводу трудоустройства в этом НИИ, входящем в систему ВАСХНИЛ. Президентом ВАСХНИЛ тогда был небезызвестный академик П.П. Лобанов – правая рука «народного академика» Т.Д. Лысенко. Однако Шеф сказал: «ВАСХНИЛ, конечно, мрачная организация, но химия феромонов – это интересно. И ваш заведующий лабораторией тоже должен быть интересным человеком». На этапе становления лаборатории Ковалева Николай Константинович даже счел возможным, вопреки своим принципам, помочь нам приобрести кое-что из оборудования производства СКБ ИОХ, распределение которого он курировал как директор ИОХ. Это были газожидкостные хроматографы ЛХМ-8 МД и ЛХС-1, а также три роторных испарителя.
И вот мы с Ковалевым, химики-синтетики из ИОХ, с головой окунулись в энтомологию. Работа энтомохимика всегда лимитируется доступностью биоматериала. Для экстракции феромонов нам нужны были крошечные железы, специально отпрепарированные из кончиков брюшек девственных самок чешуекрылых. В такой ситуации очень многое, если не все, зависит от чувствительности методов. Но Ковалев был человеком упрямым (таким он остается и по сей день). В отличие от Шефа, он терпеть не мог, если кто-то из подчиненных вдруг обнаруживал в чем-то бόльшую осведомленность, чем он. В химии феромонов эталоном для него тогда служили работы 1950-х годов немецкого химика А. Бутенандта, который еще в 1929 г. прославился выделением и установлением строения мужского и женского половых гормонов. И если тогда ему потребовалось проэкстрагировать 40 тонн мочи жеребых кобыл и беременных женщин, то для выделения и установления строения полового феромона самки тутового шелкопряда тридцатью годами позже ему вполне хватило 500 000 огромных девственных самок этого вида. Но бабочек тутового шелкопряда Бутенандту не так уж трудно было получить на шелководческих производствах, тогда как неизмеримо более миниатюрных самок наших сельскохозяйственных вредителей собрать в таких количествах было просто негде. Их искусственное разведение, причем в очень скромных масштабах, в нашем ВНИИ удалось наладить только к концу 1970-х годов.
До этого времени мы в течение двух лет мотались по лесам и оврагам, собирали гусениц, строили садки и сараи для их докармливания, выводили бабочек, препарировали железы и готовили из них экстракты. Способность экстрактов привлекать особей противоположного пола тестировали по ночам в полевых условиях, поскольку лабораторных условий для этого не было еще очень долго. Активные экстракты Ковалев затем лично сажал на колонки с окисью алюминия, чтобы в очередной раз убедиться в том, что вся активность адсорбировалась на них необратимо. В то же время нам уже были известны американские работы, в которых для идентификации половых феромонов было достаточно 20 насекомых. Делалось это методом ГЖХ, причем детектором служили свежеампутированные антенны (усики) самцов со вставленными в них микроэлектродами. Но Борис отказывался этому верить. Ему понадобилось съездить на трехмесячную стажировку в США, чтобы вернуться другим человеком и наладить нечто подобное в своей лаборатории.
Я же это время тоже даром не терял и сумел заинтересовать дирекцию в исследованиях питания и пищеварения хищных и паразитических насекомых- энтомофагов, которые являются одним из главных инструментов биологической борьбы с вредителями. Такие работы были начаты в конце 1960-х годов в Штатах и в ряде европейских стран и имели главной целью создание технологий производства энтомофагов на искусственных питательных средах. С Ковалевым мы расстались по- хорошему. В середине 1972 г. я получил право организовать и укомплектовать группу в пять человек, на базе которой в 1976 г. была открыта лаборатория биохимии и физиологии насекомых. Особенностью того периода была реальная возможность самостоятельно подбирать на просторах СССР достойных молодых людей, пристраивать их по своему усмотрению в лучшие места в качестве аспирантов, влиять на их подготовку, а после защиты почти всегда получать обратно. Среди таких мест назову ИМБ (лаборатория академика А.Е. Браунштейна), биофак МГУ (кафедра академика С.Е. Северина), корпус А МГУ (В.Ф. Ванюшин), кафедра биохимии МГПИ (Ю.Б. Филиппович). За каких-то 10 лет мне удалось подготовить также четверых полностью «доморощенных» молодых кандидатов наук, которые защитились на биофаке МГУ по специальности «энтомология», в том числе и под моим официальным руководством. Так я довольно быстро окружил себя десятком очень толковых сотрудников, которых еле успевал озадачивать и обеспечивать минимальными условиями для нормальной работы.
В 1983 г. мы перебрались в новые корпуса, в строительстве которых я непосредственно участвовал, начиная с составления техзаданий и проектирования. Наша лаборатория получила почти целый этаж химического корпуса (860 м2) плюс 180 м2 климатических камер для работы с насекомыми в биологическом корпусе плюс 100 м2 теплиц для выращивания кормовых растений. У меня появилась отдельная комната, хорошо оснащенная для занятий химией. В ней я в основном собственноручно варил дефицитные или экзотические субстраты для своих юных энзимологов, чем поддерживал в их глазах свой высокий авторитет. Но самые положительные эмоции я испытывал, когда после возвращения из очередной длительной командировки находил, что на моих молодых ребятах мое отсутствие никак не сказалось и они работают в привычном для себя темпе. Атмосферу продуктивной научной работы хорошо дополняли давно знакомые мне вечерние чаепития. А когда прямо в лабораторном корпусе в нарушение всех норм и законов стало функционировать небольшое институтское общежитие, у нас стали нормой и круглосуточные эксперименты.
ВАСХНИЛ не жалел денег (правда, преимущественно в валюте СЭВ) на наше оснащение. Буржуи из всех стран ездили к нам толпами и очень завидовали. Ведь такого комплекса нет больше нигде в мире до сих пор! Я и сам успел поездить в познавательных целях. Самое ценное в этих поездках было то, что все их программы составлялись мной самим, то есть я всегда знал, к кому и зачем еду. Более того, меня ждали и к моему приезду готовились очень знающие и авторитетные люди. К середине 1980-х годов мне удалось получить таким способом вполне ощутимые знания не только по питанию, но и по разведению насекомых. Как результат, на мою химическую шею был повешен отдел технической энтомологии в составе трех (в том числе и моей) лабораторий общей численностью 49 человек.
Конечно же, я всегда старался не терять связи с Лабораторией, насколько это было возможно. Этому способствовали частые командировки в ВАСХНИЛ с планами и отчетами, да и все зарубежные поездки из СССР также производились через Москву. Мимо Лаборатории я никогда не проезжал, и Шеф всегда знал о моих делах и живо обсуждал их в подробностях. К сожалению, углеводы в питании хищных и паразитических насекомых играют не самую главную роль, поэтому мне пришлось заниматься преимущественно белковыми, липидными и даже нуклеиновыми, но не углеводными делами. Тем не менее, про углеводы я старался не забывать, а резервными полисахаридами и пищеварительными карбогидразами насекомых одно время мы занимались вполне серьезно и достаточно продуктивно.
Шеф меня дважды охотно принимал на официальные «стажировки», и тогда я приезжал в Лабораторию поработать с лиофилизованными гомогенатами своих насекомых. В начале 1980-х годов я даже привез в ИОХ биоматериал в пятилитровом сосуде Дьюара с жидким азотом. Самолетом, конечно, я с ним лететь не решился, но поездом приехал спокойно, залепив только бумажной полосой надпись «Жидкий азот! Опасно!». По приезде в Москву я даже оставил этот сосуд на ночь в ячейке камеры хранения Киевского вокзала, чтобы не тащить его в гостиницу. Страшно представить, как встретил бы меня сейчас Киевский вокзал с таким грузом!
Жизнь распорядилась так, что наш Институт смог проработать в приличных условиях, созданных ценой огромных усилий и затрат, всего около 7 лет. Далее грянула перестройка. В самом ее начале, запомнившемся в основном по антиалкогольной компании 1985 г., я еще смог участвовать в праздновании 70-летия Шефа. До сих пор помню глубоко тронувшие меня слова: «Спасибо вам, Игорь, за то, что не забываете альма-матер!». Последней для меня возможностью окунуться в жизнь Лаборатории и ощутить себя ее частью стала Всесоюзная углеводная школа в Саратове в сентябре того же далекого 1985 года.
Потом последовали неуклонное сокращение финансирования, сворачивание зарубежных связей, информационный голод и т.д. В итоге наш Институт постигла участь большинства других объектов союзного подчинения, расположенных за пределами России. Новая власть рассматривала их исключительно как негативное наследие советского режима и старалась любыми путями и побыстрее их уничтожить. В 1992 г. мы были переданы из ВАСХНИЛ в состав АН Республики Молдова. Очень скоро выяснилось, что наши два корпуса потребляют электроэнергии и тепла больше, чем все остальные институты Академии вместе взятые. Последовал приказ о тотальном отключении энергоемкого оборудования, поставивший жирный крест сначала на энзимологии, а чуть позднее – и на всей биохимии вместе с технической энтомологией, да и на Институте в целом в его тогдашнем виде.
Такой ход событий, как это ни странно, облегчил мне расставание с взращенными мной людьми, которые в основной своей массе покинули нашу маленькую страну, быстро получившую статус самого бедного государства в Европе. Я понял, что уже никогда не смогу обеспечить им приемлемые условия для работы. Теперь они распределились более или менее равномерно на огромном пространстве и успешно работают в Новосибирске, Иркутске, Германии, Бельгии, Израиле. Бόльшая часть, а точнее шестеро из них, нашли себя, конечно же, в США. Все они по уверенности в себе и по своей квалификации ни в чем не уступают аборигенам. А я знаю, что от меня каждый из них получил свою необходимую порцию того амбициозного и наступательного стиля научной работы, который я впитал в себя, хотел того или нет, в Лаборатории.
Один из самых близких зарубежных друзей и покровителей нашего Института американец Джулиус Мэн искренне хотел спасти «уникальный объект мирового биологического контроля» и сумел получить для этого полномочия Всемирного банка на предоставление нам огромных льготных кредитов. В последний раз он приехал в Кишинев в 1994 г., чтобы заручиться государственными гарантиями на эти кредиты, будучи полностью уверен в успехе своей миссии. Когда же Мэн неожиданно для себя получил слегка завуалированный, но твердый отказ, он описал мне наши перспективы по-американски деловито и точно: «Игорь, в маленьких странах не может быть большой науки без внешней финансовой поддержки. Ваш Институт уже сейчас похож на авианосец 6-го флота, застрявший в маленьком пруду». С тех пор уже который год два наших огромных корпуса стоят пустыми, подтверждая правильность этого мрачного прогноза.
В последние 15 лет, непрерывно теряя самые элементарные условия, необходимые для нормальной научной работы, я тем не менее стараюсь найти себе такие занятия, которые позволяли бы все-таки делать что-либо, соответствующее достигнутому мировому уровню в конкретной области. Это дается нелегко, но иначе жизнь в науке я себе не представляю. Поэтому сейчас занимаюсь токсикологией насекомых, точнее – мониторингом резистентности их природных популяций по отношению к инсектицидам. Такой выбор во многом определяется тем, что для моей работы нужны только два термостата с регулируемым фотопериодом, комплект мерной посуды, 3 л ацетона в год и, главное, гамильтоновские шприцы на 1 мкл. Их солидный запас остался у меня еще с тех пор, когда у нас в лаборатории круглосуточно работали три- четыре газожидкостных хроматографа.
Моя задача заключается в том, чтобы отловить в нужном месте в нужное время необходимое количество нужных насекомых в нужной фазе развития, нанести на поверхность тела каждой особи по 1 мкл раствора инсектицида нужной концентрации и затем посмотреть, чем это для них обернется. Такая простенькая на первый взгляд работа может дать и дает очень серьезные результаты. Получаемая информация не только позволяет мне иметь вполне приличные публикации, но в принципе должна еще и влиять на государственную политику регистрации и закупок химических средств защиты растений. С последним дело обстоит несколько хуже, поскольку соответствующие инстанции, принимая мою информацию к сведению, пока предпочитают регистрировать и закупать любую продукцию любых фирм, которые оплачивают процедуру регистрации. Мои иностранные коллеги, занимающиеся у себя аналогичными исследованиями, утешают меня, говоря, что такая ситуация типична для большинства небогатых аграрных государств.
Подводя итог этим воспоминаниям, хочу сказать следующее. Город Кишинев, увы, не стал углеводным центром. Конкретные знания по химии углеводов, полученные мной в Лаборатории, к сожалению, не очень пригодились. Но вот уже 40 лет я постоянно ощущаю в себе некий заряд, сгусток энергии, который отличает меня от других. Я точно знаю, что получил этот заряд в Лаборатории.
Навигация
Предыдущая статья: ← ОСТРОВ ОЛЕРОН — Южная часть
Следующая статья: Приключения на Желтом море →
- 18♥ (10)
- Австралия (5)
- Азия (303)
- Бутан (1)
- Вьетнам (32)
- Гонконг (16)
- Грузия (1)
- Израиль (9)
- Индия (5)
- Иордания (6)
- Йемен (1)
- Камбоджа (4)
- Киргизия (1)
- Китай (38)
- Малайзия (60)
- Непал (2)
- Объединенные Арабские Эмираты (4)
- Саудовская Аравия (3)
- Северная Корея (12)
- Сингапур (17)
- Таиланд (15)
- Тайвань (1)
- Турция (10)
- Филиппины (5)
- Южная Корея (64)
- Япония (16)
- Активный отдых (103)
- велосипед (3)
- Горные лыжи (31)
- Горный туризм (12)
- Дайвинг (33)
- Кайтинг-быстрее ветра (2)
- Рыбалка (18)
- Америка (112)
- Антарктида (4)
- Арктика (2)
- Африка (125)
- Алжир (27)
- Египет (89)
- Канарские острова (7)
- Мадагаскар (1)
- Без рубрики (16)
- Аренда авто (1)
- Вести с полей (14)
- Все свое беру с собой (1)
- Горящий тур (2)
- Европа (795)
- Абхазия (1)
- Австрия (8)
- Англия (2)
- Андорра (7)
- Бельгия (5)
- Болгария (9)
- Ватикан (2)
- Венгрия (3)
- Германия (14)
- Греция (3)
- Исландия (4)
- Испания (24)
- Италия (80)
- Мальта (5)
- Молдова (186)
- Монако (2)
- Нидерланды (16)
- Норвегия (4)
- Португалия (1)
- Россия (89)
- Румыния (3)
- Сан-Марино (2)
- Сербия (1)
- Скандинавия (1)
- Словакия (30)
- Украина (67)
- Франция (200)
- Хорватия (2)
- Черногория (1)
- Чехия (27)
- Швейцария (2)
- Швеция (1)
- История науки и техники (6)
- Кулинарная страница (30)
- Ешь, что дают (2)
- Кухни мира (11)
- Приготовь сам (12)
- Литературная страница (141)
- МГУ им. Ломоносова (5)
- Путешествия с юмором (3)
- Творчество наших авторов (132)
- Музыкальная страница (24)
- Музыкальный праздник (12)
- С гитарой по жизни (4)
- Новая Зеландия (1)
- О Луне (5)
- Океания (10)
- Банка Шарлотт (1)
- Гавайские о-ва (1)
- Галапагосские о-ва (1)
- Гуам (1)
- Западное Самоа (1)
- Науру (1)
- Новая Гвинея (1)
- Новая Каледония (1)
- Острова Эллис и Гильберта (1)
- Питкэрн (1)
- Раротонга (1)
- Святая Елена (1)
- Тристан-да-Кунья (1)
- Фунафути (1)
- Путешествие в историю (3)
- Советы по безопасному отдыху (3)
- Фотоклуб (225)
- подводная фотография (16)
- Уроки мастерства (9)
- Фото недели (1)
- фото-миниатюра (10)
- фото-рассказ (105)
- Фотогалерея (51)
- Фототехника (23)
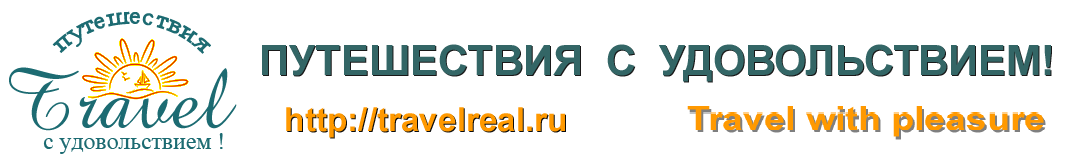


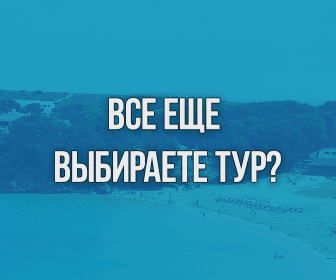








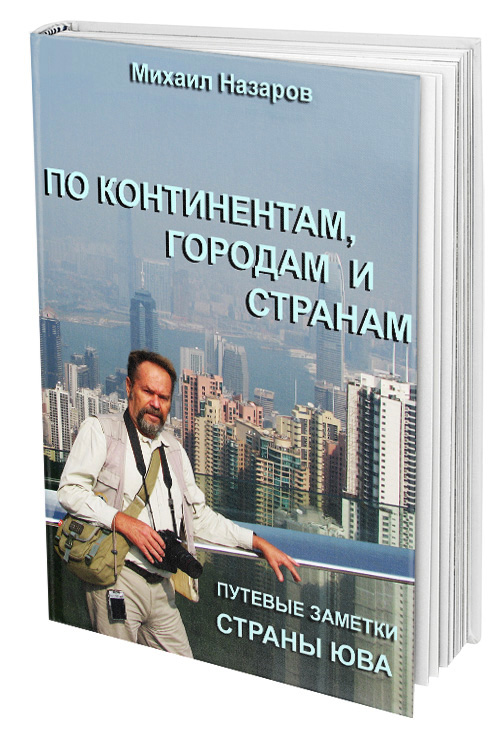
Снова прочтя статью И. Г. Язловецкого «О роли химии углеводов в моей жизни», осознала, что ушедший так рано из жизни Игорь Григорьевич, знакомый мне ещё с его студенческих лет, вырос в настоящего большого учёного и гражданина республики Молдова.
Успешно работая в Кишинёвском ВНИИ биологических методов защиты растений, он сумел подготовить четверых молодых кандидатов наук, защитивших свои исследования на биофаке МГУ по специальности «энтомология». Таким образом, он оставил после себя смену учёных.
Свой комментарий закончу словами: «Vita brévis, ars lónga» («жизнь коротка, искусство [наука] длинно [вечно]»).
Т.А. Богдановская, кандидат химических наук.
Прочла с большим интересом. Совершила путешествие в особый мир — мир Науки Почувствовала атмосферу не только научных поисков, но и дружеских шуток Да, в Лаборатории делалась большая Наука, и «путешественники» из разных регионов Союза формировались, становились самостоятельными исследователями как Игорь Язловецкий. К сожалению, наука в постсоветских «независимых» республиках не в чести. Для новых руководителей это только ненужная нагрузка на бюджет. Они не знают слов Фредерика Жолио Кюри: «Государство, не развиваюшее свою науку, превращается в колонию». Вот и наша родная Молдова идет по этому пути. Жаль очень. Спасибо, Верочка Язловецкая, что бережешь наследие мужа и знакомишь с ним добрых людей. Г.К.Дикусар
С удовольствием перечитала воспоминания Игоря Григорьевича о его становлении в науке. Очередной раз убеждаешься как важно для молодого ученого, находящего в начале своего пути, оказаться в сложившемся научном коллективе рядом с увлеченными знающими людьми. Помимо научных знаний и умений, получаемых при работе в таком коллективе, приходит понимание, как важен климат и стиль работы в лаборатории: ритм, организованность, слаженность и взаимовыручка, открытое общение в научных дискуссиях и непременно — авторитет руководителя.
Я проработала рядом с Игорем Григорьевичем 45 лет, прошла с ним все этапы жизни и трансформации Института Биологических Методов Защиты растений и лаборатории под названием Биохимия и Физиологии насекомых. С уверенностью говорю, что ИГ был отличным руководителем. Очень многое, что он почерпнул, работая в Лаборатории, было перенесено и в наш коллектив. Благодаря его заботам мы были отлично оснащены и укомплектованы специалистами, обученными в лучших профильных научных центрах СССР. Перед нами сотрудниками ставились четкие научные задачи, а проблема, в рамках которой они решались, была предварительно тщательно проработана, что называется «со всех сторон», нашим руководителем. Работать с ним было интересно. На еженедельных отчетах мы обсуждали полученные результаты каждого сотрудника, оперативно внося нужные коррективы и приходя на помощь, если это было нужно. То же самое было и при обсуждении каждой статьи, выходящей из лаборатории. Замечания по статьям были особенно ценны. Свойственный ему прекрасный стиль написания (можно судить по представленным воспоминаниям), умение четко и логично строить изложение и формулировать выводы плюс его перфекционизм — все это пускалось в ход при написании и обсуждении наших статей и служило своеобразным мастер- классом для нас.
До конца жизни, несмотря на ограниченное материальное оснащение, ИГ изыскивал возможность работать на высоком научном уровне. Он стал неплохим энтомологом. Его последние работы были успешны и связаны с поиском биологических методов борьбы с яблонной плодожоркой на грецком орехе- экономически важной культуре для Молдовы.
Светлая память тебе, Игорь Григорьевич
Виктория Суменкова